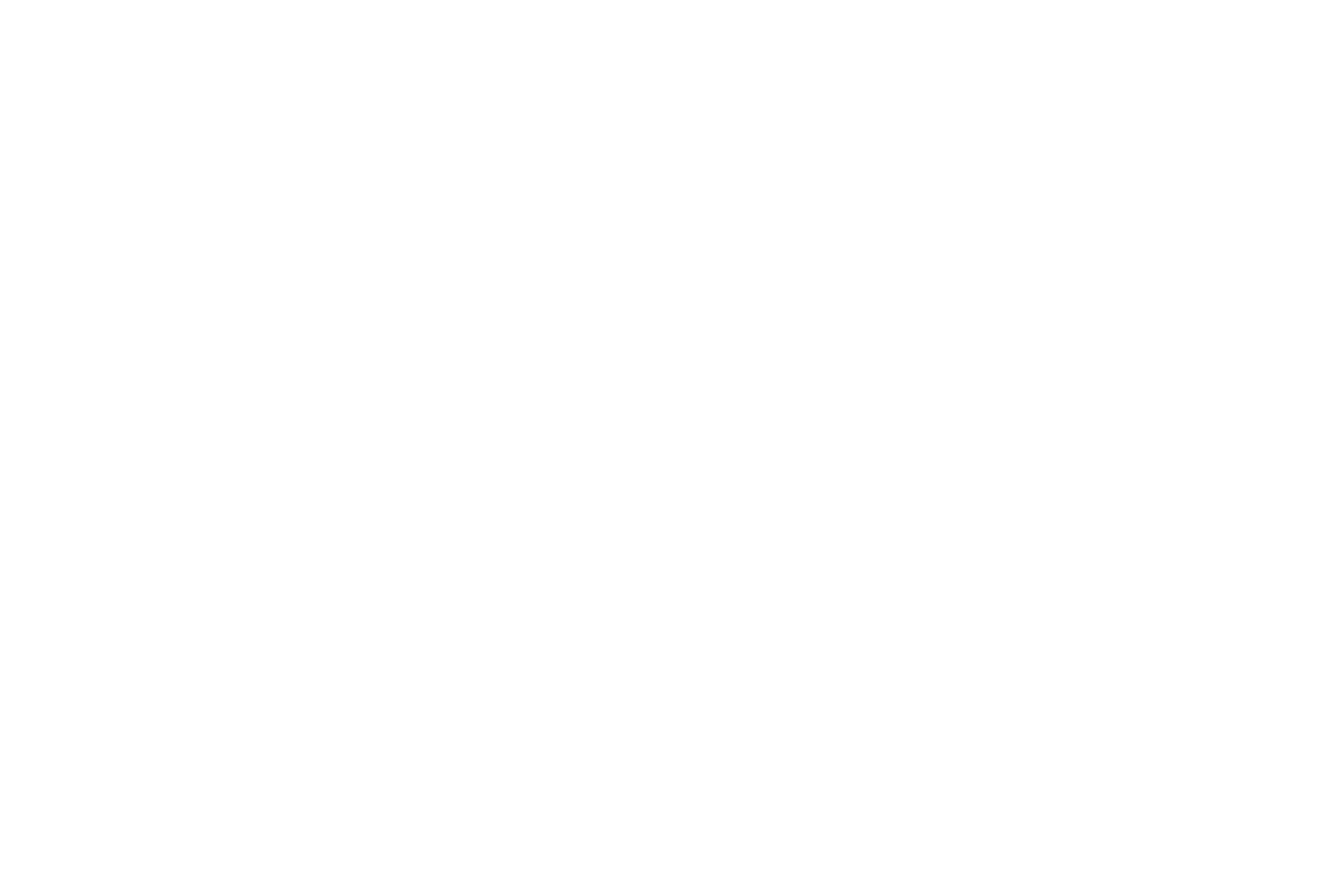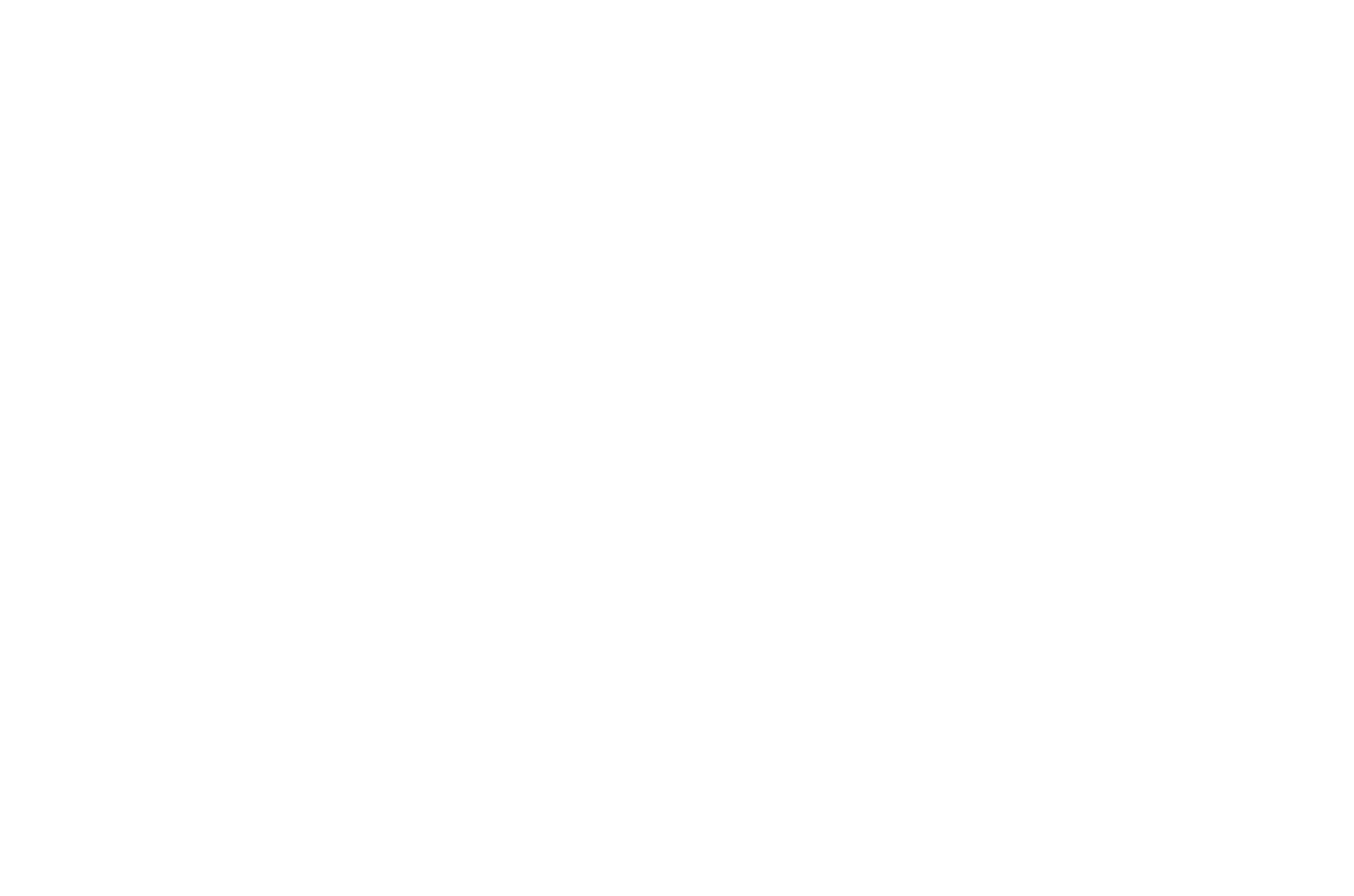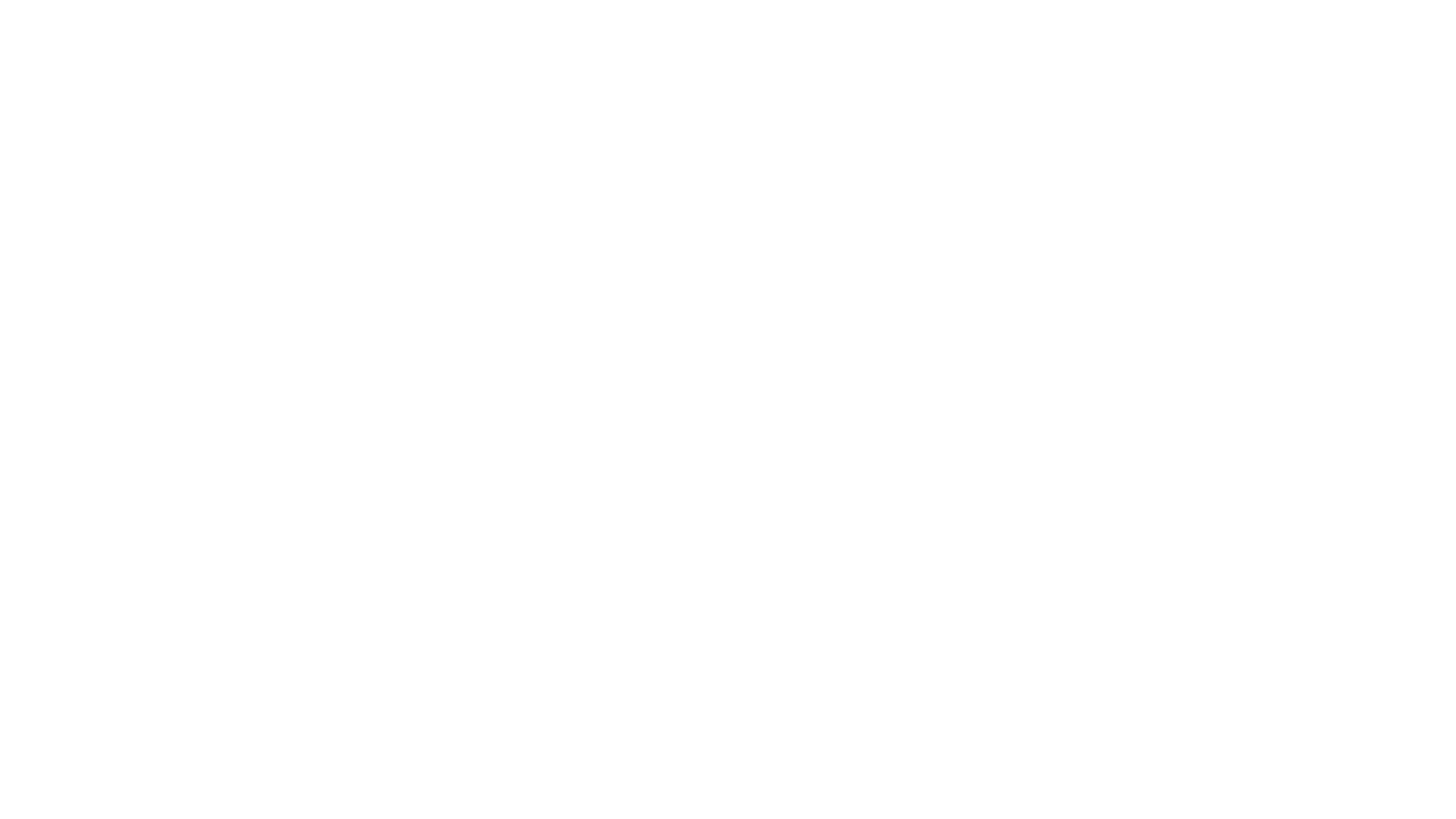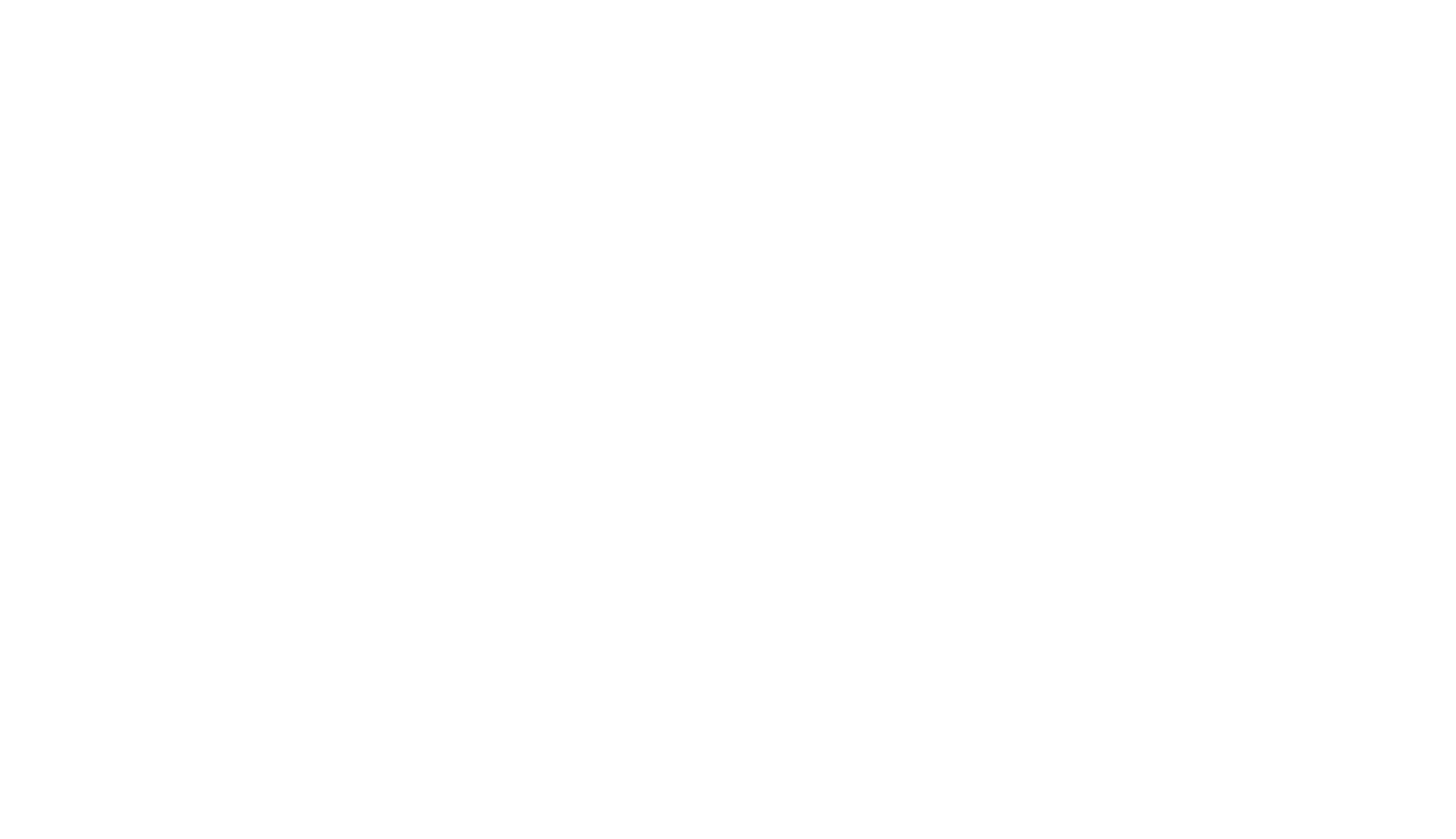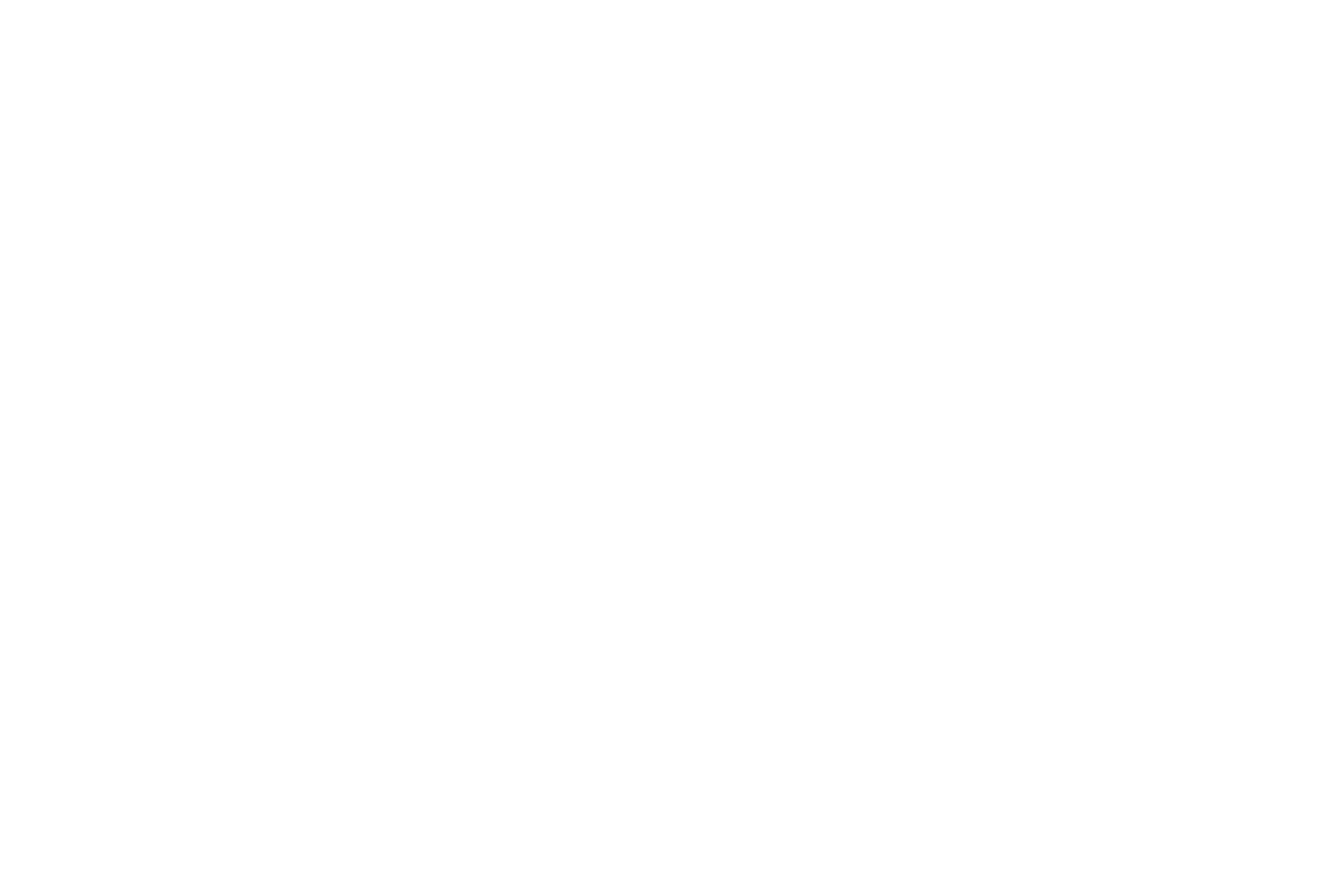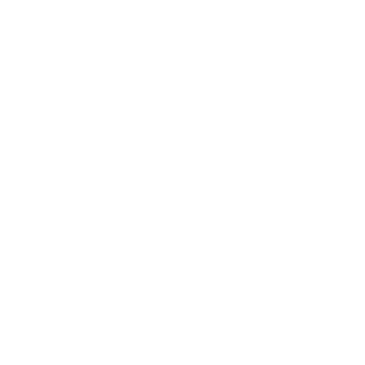Как модернизировался китайский язык
Так чем же объясняется долговечность китайской цивилизации? Лейс полагал, что это письменное слово, богатство языка, использующего символы, частично идеографические, которые почти не изменились за две тысячи лет. Как отмечает Цзин Цу, специалист по китайскому языку из Йельского университета, в книге “Королевство символов: языковая революция, которая сделала Китай современным”, в Китае письменность долгое время приравнивалась “к авторитету, символу почтения к прошлому и талисману легитимности”. Вот почему владение классическим китайским языком было так важно. Чтобы стать чиновником в императорском Китае, нужно было составлять точные научные эссе по конфуцианской философии - трудная задача, с которой могли справиться очень немногие. Даже председатель Мао, который призывал своих последователей уничтожать все остатки традиций, с гордостью демонстрировал свое мастерство каллиграфа, утверждая себя носителем китайской цивилизации.
Лейс был прав относительно непрерывности китайской письменности. Но фанатики, стремящиеся стереть старые воплощения китайской цивилизации, чтобы освободить место для новых, часто нацеливались и на письменный язык. Одним из образцов для подражания Мао был первый император династии Цинь (259-210 гг. до н.э.), всеми поносимый деспот, который приказал построить Великую китайскую стену и, возможно, был первым крупным книготорговцем в истории. Он хотел уничтожить всех классиков конфуцианства и предположительно похоронил конфуцианских ученых заживо. Единственной критикой Мао в адрес своего ненавистного предшественника было то, что он был недостаточно радикален. Именно при императоре Цинь китайская письменность была стандартизирована.
Но, если долговечность письменного китайского языка является достижением цивилизации, она не всегда рассматривалась как достоинство. В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков многие китайцы опасались, что сложность письменности этого языка поставит Китай в безнадежно невыгодное положение в мире, где доминирует латинский алфавит. О том, как китайский язык и его письменность пережили современные волны иконоборчества и обновились с начала прошлого столетия, и пойдет речь в книге Тсу.
Китайский язык, безусловно, представляет уникальные трудности.
Чтобы быть грамотным на этом языке, человек должен уметь читать и писать не менее трех тысяч символов. Чтобы получить удовольствие от серьезной книги, читатель должен знать на несколько тысяч больше. Научиться писать - это подвиг памяти и графического мастерства: китайский иероглиф состоит из штрихов, которые нужно наносить в определенной последовательности, следуя движениям кисти, и довольно много иероглифов содержат восемнадцать или более штрихов.
Цу начинает свой рассказ в конце девятнадцатого века, когда Китай переживал глубокий кризис. После кровавых восстаний, унизительных поражений в опиумных войнах и вынужденных уступок — хищнические иностранные державы забирали все, что могли, с бедного, измученного, разделенного континента — последняя императорская династия распадалась. Китайские интеллектуалы, находившиеся под влиянием модных тогда социал-дарвинистских идей, рассматривали кризис Китая в экзистенциальных терминах. Сможет ли выжить китайский язык с его сложной системой письма? Выживет ли сама китайская цивилизация? Эти два вопроса, конечно, были неразрывно связаны.
В этой культурной панике многие интеллектуалы стыдились бедности и неграмотности сельского населения, а также слабости декадентской и закоснелой имперской элиты. Они надеялись на полный пересмотр китайской традиции. Правление династии Цин завершилось в 1911 году, но реформаторы стремились очистить саму имперскую культуру. Авторитет традиции, основанной на различных школах конфуцианской философии, должен был быть подорван, прежде чем Китай смог подняться в современном мире. Классический стиль этого языка, эллиптический и сложный, практиковался лишь небольшим числом высокообразованных людей, для которых он функционировал скорее как латынь в католической церкви, как путь к высокой должности.
Реформаторы рассматривали это как препятствие как для массовой грамотности, так и для политического прогресса. Вскоре классический китайский язык был вытеснен более народной прозой в официальном дискурсе, книгах и газетах. Фактически, более распространенная форма письменного китайского языка, называемаябайхуа, уже была введена во времена династии Мин (1368-1644). Таким образом, был создан прецедент для того, чтобы сделать письменный китайский язык более доступным.
Более радикальные модернизаторы надеялись вообще избавиться от иероглифов и заменить их фонетическим письмом, либо латинскими буквами, либо в виде иероглифической адаптации, как это практиковалось на протяжении многих веков в японском и корейском языках.
Лингвист Цянь Сюаньтун, как известно, утверждал, что конфуцианство может быть упразднено только в том случае, если будут уничтожены китайские иероглифы. “И если мы хотим избавиться от детского, наивного и варварского образа мышления обычного человека, - продолжал он, - необходимость в уничтожении характеров становится еще более острой”. Лу Синь, самый почитаемый китайский эссеист и автор коротких рассказов двадцатого века, в 1936 году сделал более резкий прогноз: “Если китайскую письменность не отменить, Китай, несомненно, погибнет!”
Было предпринято много попыток транслитерировать китайский язык латинским алфавитом. Они варьируются от системы, изобретенной двумя британскими дипломатами девятнадцатого века, Томасом Уэйдом и Гербертом Джайлсом, до системы “Пиньинь”, разработанной лингвистами Китайской Народной Республики, которая, опять же, отличается от различных форм латинизации, используемых на Тайване.
Со всеми подобными системами возникают трудности. Проверенная временем система письма, основанная на иероглифах, может легко приспособиться к различным способам произношения, даже к взаимно непонятным диалектам. В китайском языке очень много омонимов, которые при транслитерации неизбежно смешиваются. И китайский, в отличие от корейского или японского, является тональным языком; необходим какой-то способ передачи тонов. (Уэйд-Джайлс использует цифры с надстрочными знаками; система, разработанная лингвистом и изобретателем Лин Ютангом, использует правила правописания; в Пиньинь используются диакритические знаки.) Соответственно, различные усилия по латинизации приводят к совершенно разным результатам.
Китайский латинский алфавит представляет собой попытку заменить традиционные иероглифы системой письма, основанной на латинице. Это нововведение рассматривалось как способ облегчить массовую грамотность и интеграцию Китая в глобальное информационное пространство. В эпоху цифровых технологий латинизация китайского языка могла бы значительно упростить коммуникацию и обработку данных.
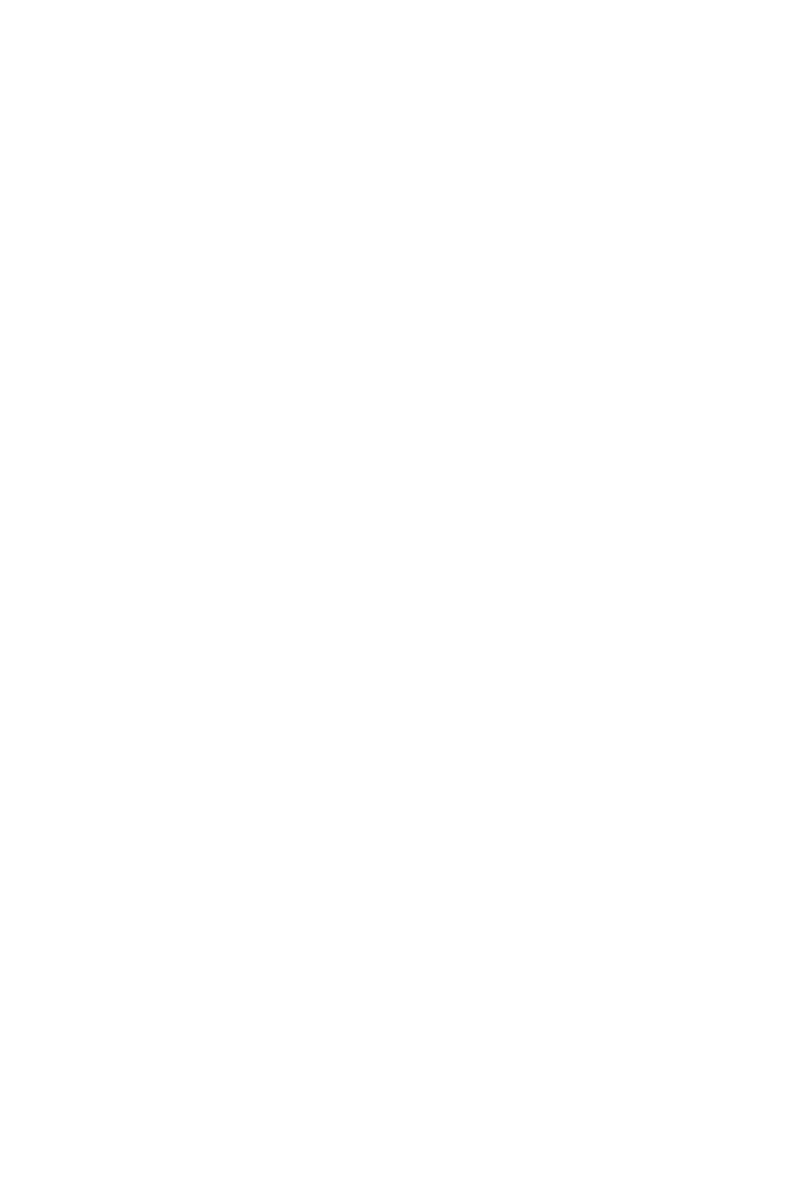
Поиски идеальной разгадки кроссворда
Иероглифы никогда не отменялись в китайскоязычном мире, но серьезные проблемы оставались. Как сделать пишущую машинку, которая могла бы вместить все эти иероглифы? Как создать телеграфную систему? Тгу подробно рассказывает, как были найдены решения таких технических трудностей — например, кодирование китайских иероглифов в телеграфной системе, ориентированной на алфавит, — а также политических. Какие символы или латинизированные транслитерации должны преобладать? Те, которые приняты Китайской Народной Республикой, Гонконгом или Тайванем?
В разгар волнений начала двадцатого века реформаторы столкнулись и с более широким вопросом: после того как китайские традиции были свергнуты, какие культурные нормы должны прийти им на смену? Большинство людей, о которых пишет Цу, смотрели на Соединенные Штаты. Многие из них учились в американских университетах в девятнадцатом веке, субсидируясь деньгами, которые Соединенные Штаты получили от Китая в качестве компенсации после разгрома антизападного боксерского восстания. Чжоу Хоукунь, изобретший китайскую пишущую машинку, учился в M.I.T. Ху Ши, ученый и дипломат, который помог превратить просторечие в национальный язык, поступил в Корнелл. Линь Ютан, который изобрел китайскую пишущую машинку, учился в Гарварде. Ван Цзинчунь, который проложил путь китайской телеграфии, сказал скорее пылко, чем точно: “Наше правительство американское; наша конституция американская; многие из нас чувствуют себя американцами”.
Такой акцент на США может понравиться американским читателям. Но в последние годы правления династии Цин и в ранний республиканский период Япония была гораздо более влиятельной моделью современных реформ. Странно, но Цу почти не упоминает об этом в своей книге. Япония— чья военная победа над Россией в 1905 году приветствовалась по всей Азии как признак того, что современная азиатская нация может противостоять Западу, была главным проводником концепций, изменивших социальный, политический, культурный и языковой ландшафт в Китае. Более тысячи китайских студентов присоединились к Чжоу и Ху в качестве стипендиатов по выплате компенсаций боксерам в США в период с 1911 по 1929 год, но к 1905 году более восьми тысяч китайцев уже обучались в Японии. И во многих школах Китая работали японские преподаватели технических и научных дисциплин.
Это правда, что промышленные, военные и образовательные реформы Японии после реставрации Мэйдзи в 1868 году сами по себе были основаны на западных моделях, включая художественные течения, такие как импрессионизм и сюрреализм. Но эти идеи были переданы Китаю китайскими студентами, революционерами и интеллектуалами Японии и оказали прямое и долговременное влияние на письменный и разговорный китайский. Многие научные и политические термины китайского языка, такие как “философия”, “демократия”, “электричество”, “телефон”, “социализм”, “капитализм” и “коммунизм”, были придуманы в японском языке путем сочетания китайских иероглифов.
Требования радикальных реформ достигли апогея в 1919 году, когда в Пекине прошла студенческая акция протеста, сначала против положений Версальского мирного договора, которые позволили Японии завладеть немецкими территориями в Китае, а затем против классических конфуцианских традиций, которые, как считалось, стояли на пути прогресса. В так называемом движении Новой культуры объединилась целая гамма политических ориентаций, начиная от прагматизма Ху Ши, вдохновленного Джоном Дьюи, и заканчивая ранними обращениями в социализм. В чем протестующие против новой культуры могли согласиться, как отмечает Tsu, так это в критической важности массовой грамотности.
Понижение статуса классического китайского языка и популяризация разговорной письменности были шагом в этом направлении, даже если отмена иероглифов в китайском языке оставалась слишком радикальной для многих. Тем не менее, как говорит Цу, некоторые националисты, правившие Китаем до 1949 года, выступали за хотя бы упрощение символов, как и коммунисты.
Попытки националистов упростить текст наталкивались на противодействие консерваторов, которые хотели защитить традиционную китайскую письменность; коммунисты были гораздо более радикальны и никогда не отказывались от идеи перехода на латиницу. В Советском Союзе латинский алфавит использовался для того, чтобы навязать политическое единообразие многим разным народам, включая мусульман, которые привыкли к арабской графике. Советы поддерживали и субсидировали усилия Китая последовать их примеру. Для коммунистов, как отмечает Цу, цель была проста: “Если бы китайцы умели легко читать, их можно было бы радикализировать и обратить в коммунизм с помощью новой письменности”.
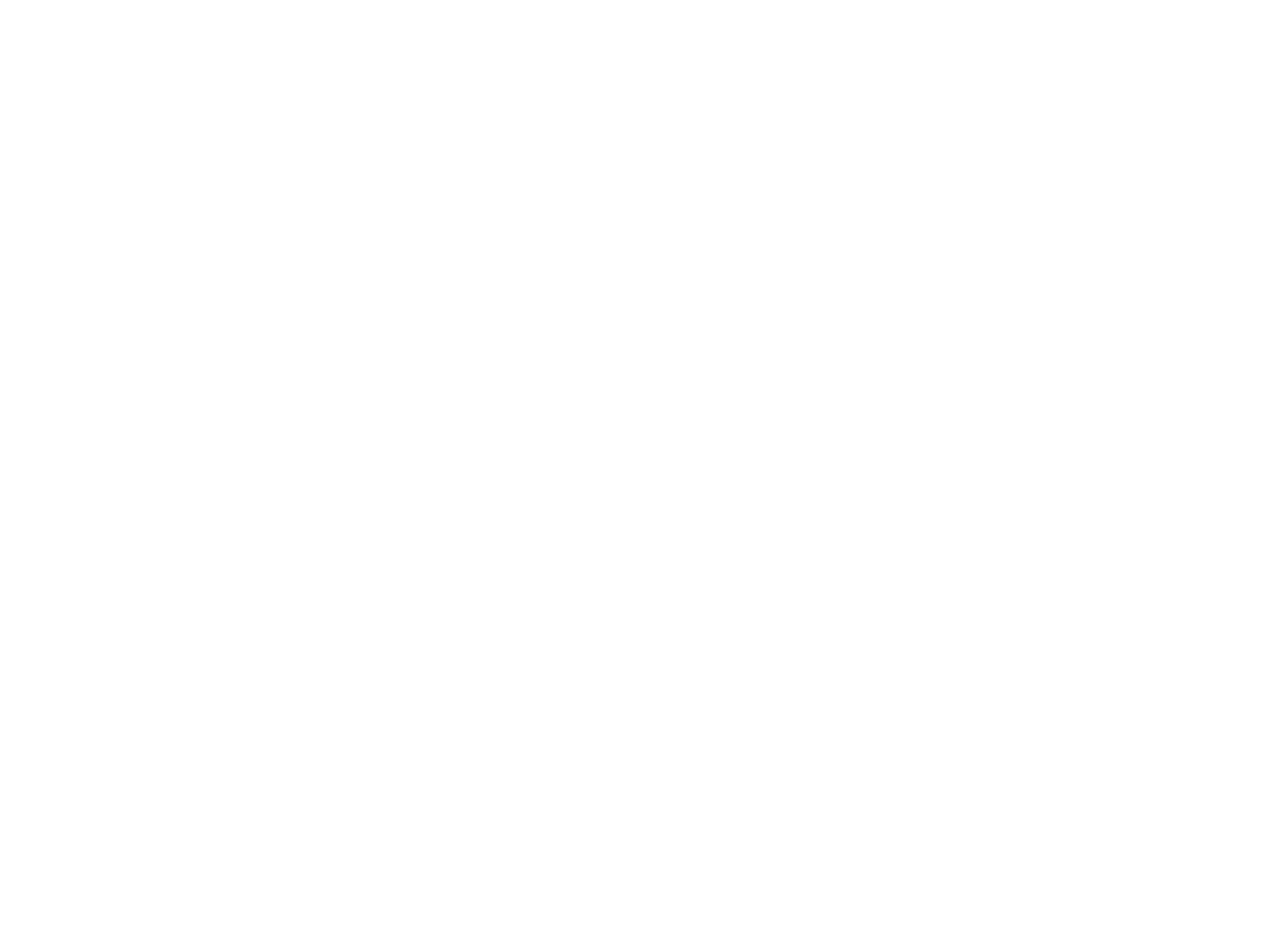
Длительный конфликт с Японией, с 1931 по 1945 год, временно остановил языковую реформу. Националисты, которые в основном сражались, боролись просто за выживание. Коммунисты уделяли больше времени размышлениям об идеологических вопросах. Радикальная языковая реформа началась всерьез только после того, как националисты потерпели поражение в 1949 году и были вынуждены отступить на Тайвань. Мао Цзэдун в последующее десятилетие положил начало двум лингвистическим революциям: пиньинь, латинизированной транскрипции, которая стала стандартом по всему Китаю (а теперь практически везде), и так называемому упрощенному китайскому языку.
Комитет по реформе письменности, созданный в 1952 году, начал с выпуска около восьмисот переработанных символов. В последующие десятилетия было выпущено больше, а некоторые были переработаны. По словам Цу, новые персонажи, выполненные гораздо меньшим количеством штрихов, были “верны эгалитарным принципам социализма”. Коммунистические кадры радовались тому факту, что “голоса народа наконец были услышаны”. Среди бенефициаров были “рабочие и крестьяне Китая”. В конце концов, “Мао сказал, что массы - истинные герои и их мнению нужно доверять”.
Цу справедливо ставит в заслугу коммунистическому правительству повышение уровня грамотности в Китае, который, по ее словам, достиг девяноста семи процентов в 2018 году. Но мы должны с долей скептицизма отнестись к утверждению, что эти достижения были получены в результате агитации снизу вверх. “Ничего подобного никогда не предпринималось в мировой истории”, - пишет она. Японцы могут позволить себе не согласиться; в 1900 году девяносто процентов населения Японии посещало начальную школу. Мы также можем задаться вопросом, сыграли ли упрощенные иероглифы такую большую роль в высоком уровне грамотности в Китае, как склонен думать Цу. На Тайване и в Гонконге традиционные иероглифы остались в основном нетронутыми; если есть доказательства того, что детям там гораздо труднее научиться читать и писать, было бы полезно знать. Простого сообщения о том, что “наконец-то голоса людей были услышаны”, недостаточно для обоснования этого. И даже если есть преимущества в изучении радикально переработанного сценария, есть и потери. Не только новые персонажи становятся менее элегантными, но и книги, написанные в старом стиле, становятся трудными для понимания.
В этом-то и был смысл. В 1956 году Тао-Тай Ся, в то время профессор Йельского университета, писал, что усиление коммунистической пропаганды было “главной мотивацией” языковой реформы: “Мысль об избавлении от частей культурного прошлого Китая, которые коммунисты считают нежелательными, посредством языкового процесса всегда присутствует в умах коммунистических работников культуры”. Это было написано во время холодной войны, но Ся, безусловно, был прав. В конце концов, как указывает Цу, “те, кто выражал свое недовольство реформой пиньинь, были бы поглощены последовавшими годами преследований”, а тем, кто ворчал по поводу упрощенных символов, жилось немногим лучше.
Тгу усердно связывает историю языковой реформы с технологиями — мы многое узнаем о героических усилиях по адаптации современного набора текста к системе, основанной на символах, - и эта история продолжается в цифровую эпоху. Скорость, с которой были достигнуты эти успехи, действительно впечатляет. В семидесятых годах более семидесяти процентов всей распространяемой печатной информации в Китае набиралось горячим шрифтом. Сегодня, как взволнованно пишет Цу — временами ее стиль напоминает журналы периода Мао, такие как China Reconstructs- обработка информации является “инструментом, который открыл дверь в передовое технологическое будущее, которое, наконец, открылось благодаря десятилетиям лингвистических реформ и государственного планирования в Китае”.
Тгу отмечает эти технические инновации, освещая личные истории ключевых личностей, которые часто читаются как традиционные конфуцианские нравоучительные сказки об ужасных трудностях, преодолеваемых исключительно упорством и тяжелой работой. Чжи Биньи работал над своими идеями о китайском компьютерном языке в убогой тюремной камере во времяКультурной революции, записывая свои расчеты на чайной чашке после того, как охранники отобрали у него даже туалетную бумагу. Ван Сюань, пионер систем лазерного набора текста, был так голоден во время провальной кампании Мао Цзэдуна “Большой скачок вперед" в 1960 году, что "его тело распухло от усталости, но он продолжал неустанно работать”.
Такие анекдоты добавляют приятной окраски техническим объяснениям фонетических шрифтов, пишущих машинок, телеграфа, картотечных систем и компьютеров. Предложения вроде “Наконец, с помощью обратного процесса декомпрессии Ван преобразовал векторные изображения в растровые изображения точек для цифрового вывода” могут утомить.
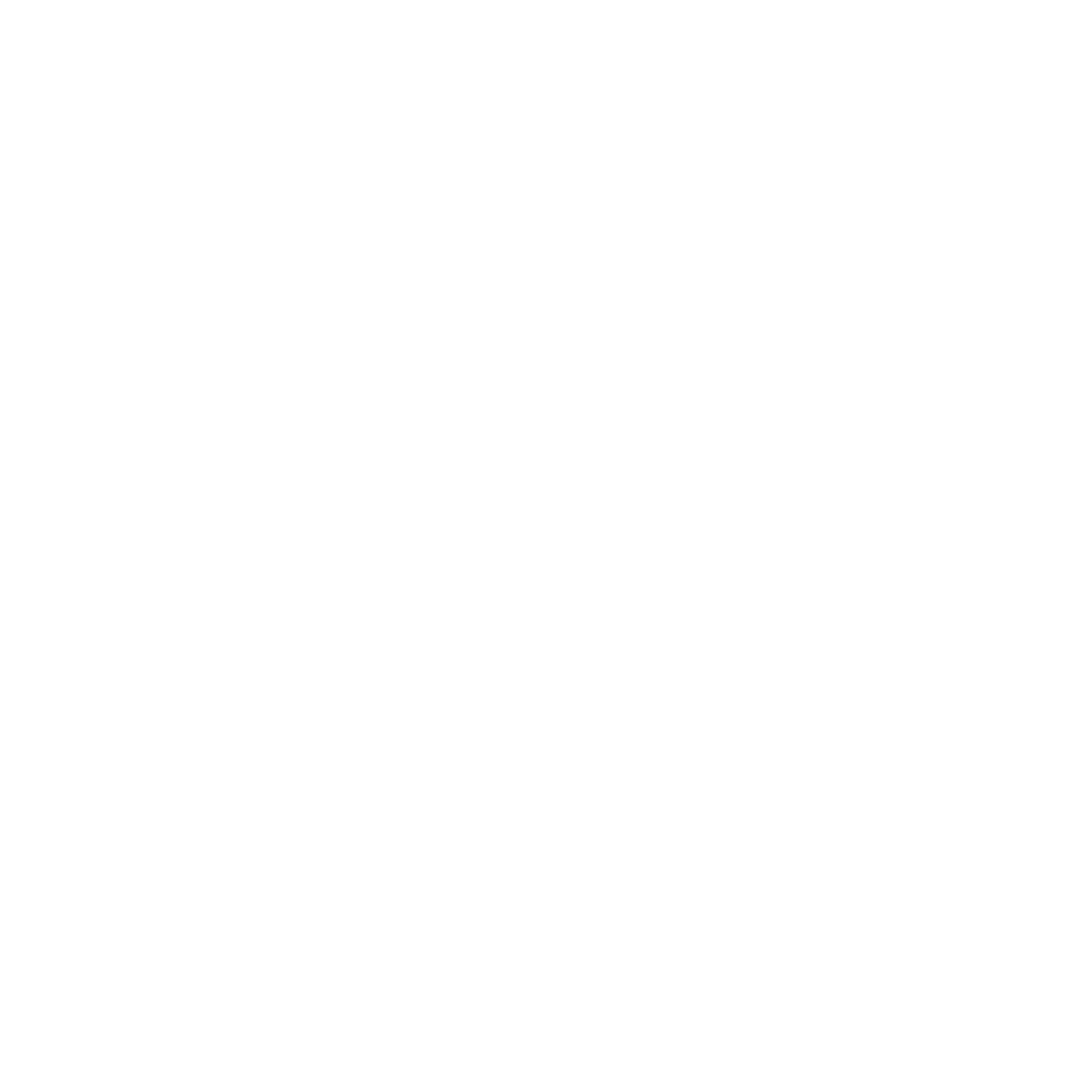
Сегодня, в эпоху стандартизированных текстовых процессоров и китайских приложений для социальных сетей, таких как WeChat, пиньинь и иероглифы неразрывно связаны. Пользователи обычно набирают пиньинь на клавиатуре, в то время как на экране отображаются упрощенные символы, предлагающие множество вариантов разрешения омонимов. (Пользователи старшего возраста могут рисовать символы на своих смартфонах.) Китай, как говорит Цу, “наконец-то получит шанс общаться с миром в цифровом формате”. Старая борьба за письменные формы может показаться излишней. Но языковая политика сохраняется, особенно в том, как правительство общается со своими гражданами.
В “Королевстве персонажей” упоминаются все основные политические события, от восстания Боксеров до возвышения Си Цзиньпина.
И все же может сложиться впечатление, что развитие языка было в значительной степени историей гениальных изобретений, придуманных отважными людьми, преодолевавшими огромные технические препятствия. Ее отчет заканчивается на триумфальной ноте; она отмечает, что письменный китайский язык в настоящее время “все более широко используется, изучается, размножается, изучается и точно преобразуется в электронные данные. Это примерно настолько бессмертно, насколько может надеяться получить живой сценарий ”. Продолжая в том же духе, она пишет: “Революция китайской письменности всегда была истинно народной революцией — не ”народом", как его определяет коммунистическая идеология, а более широкими массами, которые поддерживали ее благодаря новаторам и пехотинцам".
Однако, как бы сильно ни повлияли технологии на модернизацию языка, это также часть гораздо более широкой политической истории. Диктатуры формируют то, как мы пишем, говорим и, во многих случаях, думаем. (Блестящий анализ нацистской речи Виктора Клемперера в его книге —Язык терции империи - остается бесценным исследованием этого явления.) Это тоже часть истории о том, как изменился китайский язык в современную эпоху. Я до сих пор содрогаюсь при воспоминании о том, как, будучи студентом в начале семидесятых, читал маоистские публикации на китайском языке с их сухим языком, тяжелым советским сарказмом и бесконечными предложениями, которые звучали как буквальные переводы с марксистского немецкого — полная противоположность сжатому поэтизму классического стиля. Но в Китае Мао овладение этим стилем было так же важно, как написание конфуцианских эссе в имперские времена. Когда в семидесятых годах официальное китайское информационное агентство "Синьхуа" призывало правительство ускорить развитие компьютерных технологий, его заявленной целью было более эффективное распространение доктрин Коммунистической партии.
В наши дни геополитический и технологический статус Китая означает, что его политические “нарративы” стали глобальными. Китай продвигает модель, альтернативную демократии западного образца. "Мягкая сила" используется для изменения того, как воспринимают Китай за рубежом и как следует вести бизнес с Китаем. Цу говорит, что Китай хочет иметь возможность продвигать свой “нарратив как главный или универсальный нарратив, которому должен следовать мир”. Это звучит зловеще. Тем не менее, из ее книги не всегда ясно, говорит ли она о Китае как о цивилизации, как о китайскоязычных народах или как о Коммунистической партии Китая. Она пишет, что “история Китая, без сомнения, нацелена на триумфальное повествование”. Но история какого Китая? Включает ли она Тайвань, где граждане пользуются еще более передовыми информационными технологиями, чем их коллеги в Народной Республике? Или это нечто более расплывчатое, нечто такое, что объединяет все китайские культуры?
Для Си Цзиньпина, конечно, нет никакого различия. На партийном собрании в ноябре то, что называлось мыслью Си Цзиньпина, было определено как “сущность китайской культуры и духа Китая”. Вопрос в том, преуспеет ли китайское коммунистическое правительство в использовании своей мягкой силы, чтобы сделать свой “нарратив” всеобщим триумфом. Оно уже вовсю насаждает официальную догму своему собственному народу. В Китае достаточно талантливых ученых, художников, писателей и мыслителей, чтобы оказывать большое влияние на мир, но это влияние будет ограничено, если они не смогут свободно выражать себя. В наши дни многие написанные китайские слова вообще не могут появиться в печатном или цифровом виде. После дела Пэн Шуай даже слово “теннис” теперь стало подозрительным в китайском киберпространстве.
В последнем предложении своей книги Цу пишет: “История, продолжая разворачиваться, превзойдет историю Китая”. Я не уверен, что это значит. Но история китайского языка при коммунизме - это в основном история репрессий и искажений, которым бросали вызов только герои и дураки. При описании языка, нарративов, персонажей и кодов значение слов по-прежнему имеет наибольшее значение. Чрезмерно подчеркивайте носителя, и это сообщение может потеряться.